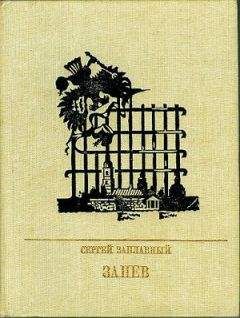— Это раньше бывало: комнат — сколько хошь… А поди-ка разведись… наплачешься…
Подходила вторая ночь.
— Теперича моя очередь на кровати… Кровать не твоя, а общая, — сказал Иван.
— Отвернись, — сказала Марья, разделась и легла на пол. Иван спал крепко, Марья тревожно: все вертелась на полу — жестко.
Пришла третья ночь. Иван читал газету. Марья достала новую рубашку в кружевах, нарочно перед самым носом Ивана разложила ее на столе и стала продевать в проемы розовые ленточки. Иван покосился на рубашку, крякнул и никак не мог перелезть на другую строчку: голова вдруг отказалась понимать прочитанное, в голове замелькала женская рубашка, тело — бывшей жены или ткачихи Веры — все равно.
— Отвернись, передену рубашку, — сказала Марья.
Ивану показалось, что голос Марьи прозвучал не так, как раньше. Иван отвернулся к зеркалу и протер глаза. В небольшом квадрате зеркала отражалась часть кровати. Марья отпахнула одеяло, и рубашка скользнула с ее плеч. Сердце Ивана стукнуло, остановилось и — раз-раз-раз — пошло работать без узды. Чтоб не смотреть на отражение крепкого женского тела, Иван, согласно идеологии, зажмурился, но тотчас же открыл глаза.
Ложась на пол, он думал:
«Придется постельник сделать. Черт его знает, этот развод. Ничего не предусмотрено».
На пятую ночь, когда Ивану опять пришла очередь спать на полу, Иван сказал:
— Слушай. Без постельника немыслимо на полу валяться. Если, так сказать, вдуматься категорично, мы можем, как тот, так и другой, спать вместе на кровати, ведя себя соответственно.
Марья подумала и сказала сердито:
— Ложись! Только чтоб спина к спине.
— Обязательно! — воскликнул Иван. — Соответственно… И тому подобное.
Ах, как приятно! В комнате восемь градусов, а до чего тепло спине. А все-таки надо идеологии держаться.
— Пожалуйста, не шевелись, — сказала Марья, засыпая.
— Я не шевелюсь… Я так, от нечего делать… Приятно очень.
Днем, в воскресенье, у них был такой разговор.
— Когда же ты уберешься от меня, постылый? — сказала Марья.
— А куда же мне, ежели кругом такое уплотнение?
— К Верке к своей, вот куда!
Иван взглянул в глаза Марье: бешеные бесенята, огоньки.
— Она сама при муже, — угрюмо сказал он. — Мы с ней, ты думаешь, как? Мы с ней просто по-хорошему.
— По-хорошему? — закричала Марья. — А пошто мял-то ее на танцульке. В коридоре-то?
— Мял-мял… Эка беда какая… Да ведь как вас, баб, не мять… Ежели вы такие… Ну, это самое… Всякий комбинат. Поневоле будешь мять…
— Поневоле? — еще звонче крикнула она. И сразу тихо, сквозь сдержанные вздохи: — А впрочем, сказать… Чего это я, дура… Теперича мне тьфу на тебя. Чужой ты мне, вот все равно как это полено. Мни, кого хошь, тешься.
— А ты?
Марья замигала и быстро в сенцы.
Легли опять спать спина к спине. Ивана подмывало повернуться. Марья, будто угадав, сказала сквозь зубы:
— Ты не вздумай облапить меня. Я тебе не девка гулящая.
— Ну, вот еще… Что я, маленький, что ли?
— Да ведь вы… О, чтоб вам сдохнуть!..
Иван огорченно улыбнулся тьме. И чтоб укротить себя, пытался направить мысли иным путем:
«Двенадцатый разряд… По какому праву? Да он, этот самый Лукин, без году неделю и служит-то… Неужто за то, что языком трепать умеет? А мне едва одиннадцатый дали… Обида или нет? Да, да… О-о-о-обида, — засыпая, думал Иван. — Чего? — А хорошо бы поэтому… как его… ну вот этому в морду дать. А-а-а, Лукин, вот он-он… Держи его… двенадцатый разряд… А? Разряд? Хватай, бей!»
Иван занес руку, чтоб сгрести обидчика в охапку, и почувствовал, что его рука прикоснулась к чему-то мягкому, как крутое тесто. И вслед за этим обидчик крепко дернул его за бороду, крикнув:
— Пожалуйста, без объятиев своих! Отъезжай на пол… Ежели руки распространяешь.
Иван очнулся и сказал:
— Извиняюсь… Затмение… Комбинат.
И вновь спины вместе, дружба врозь. Лежит Иван, хлопает во тьме глазами, не может разобрать — хнычет Марья или хихикает над ним. Лежали долго.
— Иван! — позвала Марья.
Иван притворился спящим и легонько захрапел.
— Ох, какая канитель мне с ним, — вздохнула Марья и, повернувшись к мужу грудью, опять тихонько позвала: — Иван!
Иван храпел. Тогда Марья слегка прикоснулась губами к Ивановой спине и чмокнула, сказав: — Ах, душка мой… Василь Василич…
— Извиняюсь!.. В чем дело? — быстро повернулся к ней Иван. — Какой это Василь Василич у тебя имеется?
— А тебе какое дело? — сказала Марья и повернулась к нему спиной.
— Мое дело, конечно, маленькое, — сказал Иван. — Эх, Маша, Маша!..
— Ты с Верками да бознат с кем путался, а мне зевать? Плевала бы я…
— Вовсе я даже ни с кем не путался… Как честный человек говорю… Ха! Променял бы я тебя на Верку. Даже смешно.
— А что? Скажешь, меня любил?
— Неужели нет? Эх, Маша… — Он горестно взмотнул головой, и кончик его носа зарылся в густую косу Марьи.
Марья быстро повернулась к нему грудью, крикнула:
— Ах ты, дурак паршивый, притворщик. Ишь ты, прикинулся, храпел, как конь… Сроду не знавала никого опричь тебя. А ты и уши распустил. Я просто испытать… Ха! Василь Василии какой-то, провались он.
— Маша! Изюминка!
— Ваня!
А перед утром Иван сказал:
— Просто непонятное бывает на свете. Ведь вот жили мы с тобой, скажем, десяток лет, и ничего такого… все как-то… Даже наскучили друг дружке. А тут, черт его знает то есть, как развелись, с того самого моменту я прямо втюрился в тебя, как самый безнадежный влюбленный буржуй. То есть черт его… И с каждым моментом гораздо пропорциональнее… Ну, хоть на стену полезай или топись… Вот что значит психология… Развод придется онулировать… Ах, необдуманный комбинат какой… Идеологически паршиво вышло.
Марья вздохнула и сказала:
— А хорошо бы нам ребеночка.
— Не плохо бы, — сказал Иван. — А что касаемо религиозной почвы, то ее как-нибудь урегулируем. И вдобавок, Маша, надо пружинный матрас купить.
Приказано было в нашей деревне Крайней женотдел образовать. Ну ясно, оборудовали. Председательша — Фекла Пахомова — чернущая, как цыганка с табора. И страсть какая злобная — перцем не корми. То есть так взъершила баб против мужиков, не надо лучше: поедом стали бабы мужнишек есть: «Ах вы, пьяницы! Ах вы, окаянные! Да мы вас, да вы нас…» Даже ежели, скажем, желательно допустить над собственной женой что-нибудь особенное, ну, вот это самое, дак и то она — пошел, говорит, к черту, думаешь, говорит, легко в тягостях-то нашей сестре ходить… А чуть вразумлять начнешь, она норовит ухватом по морде смазать, да с ревом в женотдел: «Караул, караул, убил!» А какое, к свиньям, убил, ежели сам стоишь у рукомойника, нос замываешь, а из носу невинная, конечно, кровь…
Других мужиков председательша Фекла Пахомова, чтоб ей в неглыбком месте утонуть, в суд потянула, — дескать — увечат жен. И что ж? Разве наши суды — суды? Жены пришли на суд краснорожие, у мужьев под глазами фонари понатырканы, даже один хромает. И, невзирая на подобные приметы, мужиков присудили к штрафу да к отсидке.
— Разобьют рыло, а скажут: так и было, — ругали женщин мужики.
Один прибег домой — лица нет, аж зубами скрипит, а бабу колошматить воспрещено. Дак он что… Он от горькой злобы собственную собаку удавил, сгреб за шиворот и сразу в петлю:
— На, — говорит, — тебе, сучья тварь, на! Повиси заместь моей стерьвы — Машки… У-ух! — и заплакал. Сидит в хлеве, на навозе, сморкается на все стороны, плачет. Мужики очень смирные у нас, а бабы — бой.
Этот ужасный террор проистекал до осени. Феклу Пахомову вытребовали в город служить, то есть к повышению. Она бобылка грамотная, собралась, уехала. Бабья часть провожала ее с воем.
Мужики сказали на сходе:
— Ну, длиннохвостые, кончилась вам масленица. Кого хотите в председательши? Становь кандидатуру, черт вас ешь!
Та не хочет, эта не желает, третья — боится. Так никого и не избрали. А из волости приказ — избрать. Судили мы, рядили, дай, думаем, изберем в председательши мужчину.
Сельсовет, мельник наш, сказал:
— Что же, братцы, деревня наша Крайняя, на самом краю, дальше болото на сто верст, к нам никто дорого не возьмет и заглянуть-то из порядочных. Давайте, братцы, изберем Настасея. Имя у него вроде бабье, и фамиль — сам поп не разберет — Сковорода. Баба тоже может сковородой быть за всяко просто.
Тогда начал говорить сам Настасей:
— Я ничего, братцы, согласен, как говорится. И имя… тово… действительно, чтобы… Даже маленького меня и звали-то «Настюхой». Только, братцы, как бы какого худа не было… Кроме всего прочего, конечно, да.
— Хы! Худа. Эка штука гумагу раз в месяц подмахнуть. Пиши фамиль само неразборчиво, чтоб гаже нет.
![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](https://cdn.my-library.info/books/150395/150395.jpg)